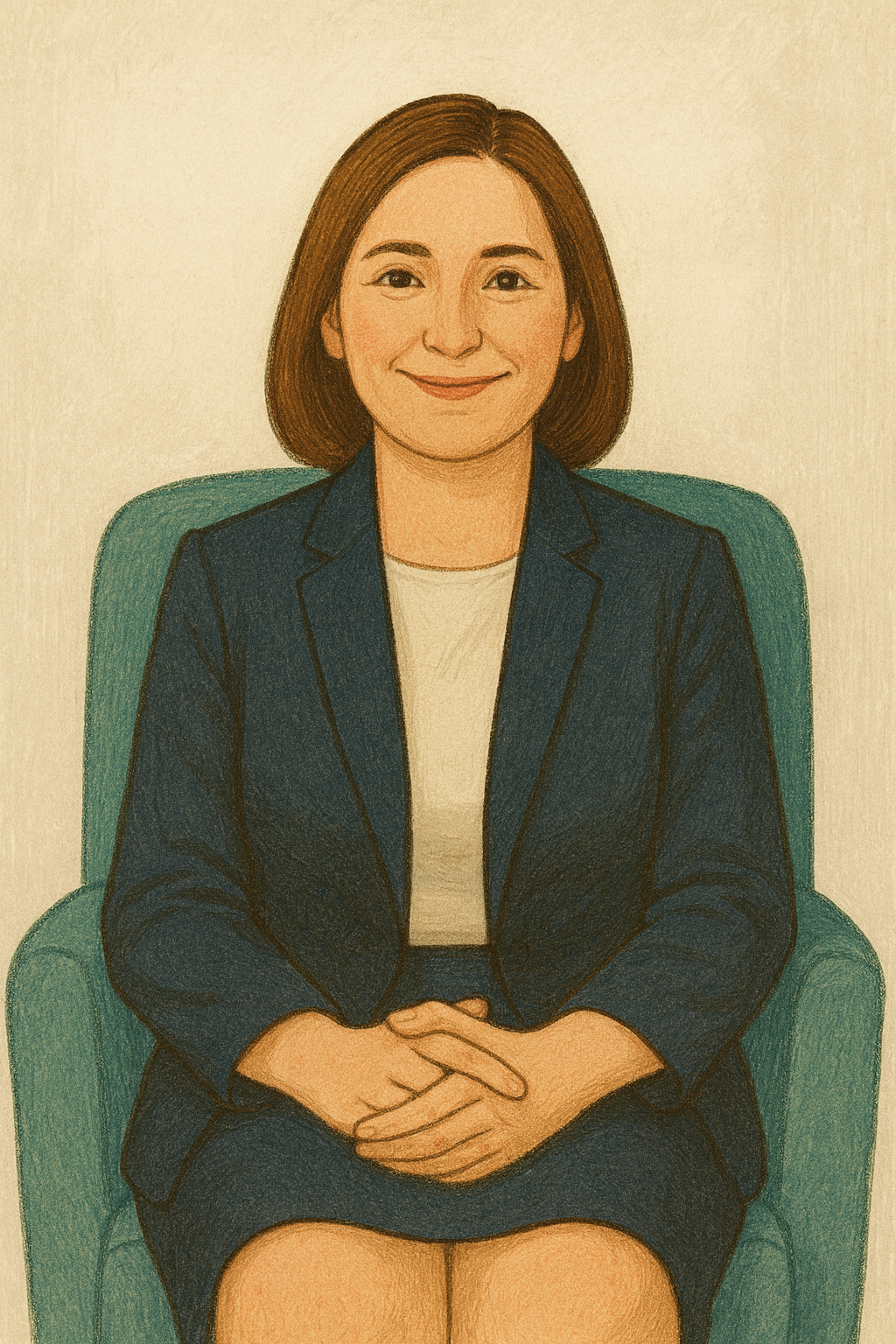5 этапов развития привязанности: как детские травмы удерживают нас в эмоциональной зависимости

Когда тревога в отношениях уходит корнями в детство
Чем дольше я работаю с людьми, тем чаще вижу — передо мной в кабинете не просто взрослый мужчина или женщина с конкретным запросом, а тот самый ребёнок, который когда-то пережил боль, страх или одиночество. Иногда это младенец внутри клиента, который испытывает почти паническую тревогу, если близкий человек отдаляется хоть на шаг. Иногда — чуть подросший ребёнок, которому страшно подпустить кого-то слишком близко, потому что есть ощущение: «меня сожрут психологически, я исчезну».
Я часто ловлю себя на том, что, слушая истории клиентов, вижу целые сцены их прошлого. Мама, которая не поднимает на руки, чтобы «не избаловать». Папа, который обижается на попытки быть самостоятельным. Взрослые, которые считают, что знают лучше, как «правильно» жить, и в итоге гасят любое «хочу» ребёнка. Эти ранние опыты будто записываются в тело и сердце, и потом мы строим отношения уже не только как взрослые — в нас всегда говорит тот маленький я, который хочет быть в безопасности, но не всегда знает, как.
В психологии есть много исследований про то, как меняется привязанность на разных этапах взросления. Один из подходов, который мне близок, — модель Джанет и Роберта Уайнхольд. Они описывают пять ключевых этапов, на каждом из которых мы решаем задачу развития привязанности. Если задача не решена — возникает внутренний «разрыв», и во взрослом возрасте он часто проявляется как эмоциональная зависимость.
Дальше я расскажу о каждом этапе — не только с точки зрения теории, но и через свой опыт психолога и человека. И поделюсь историями клиентов, чтобы вы могли почувствовать, как это выглядит в реальной жизни.
Я часто ловлю себя на том, что, слушая истории клиентов, вижу целые сцены их прошлого. Мама, которая не поднимает на руки, чтобы «не избаловать». Папа, который обижается на попытки быть самостоятельным. Взрослые, которые считают, что знают лучше, как «правильно» жить, и в итоге гасят любое «хочу» ребёнка. Эти ранние опыты будто записываются в тело и сердце, и потом мы строим отношения уже не только как взрослые — в нас всегда говорит тот маленький я, который хочет быть в безопасности, но не всегда знает, как.
В психологии есть много исследований про то, как меняется привязанность на разных этапах взросления. Один из подходов, который мне близок, — модель Джанет и Роберта Уайнхольд. Они описывают пять ключевых этапов, на каждом из которых мы решаем задачу развития привязанности. Если задача не решена — возникает внутренний «разрыв», и во взрослом возрасте он часто проявляется как эмоциональная зависимость.
Дальше я расскажу о каждом этапе — не только с точки зрения теории, но и через свой опыт психолога и человека. И поделюсь историями клиентов, чтобы вы могли почувствовать, как это выглядит в реальной жизни.
Этап 1. Симбиоз — когда мир рушится, если рядом никого нет
Это время, когда младенец и мама (или другой значимый взрослый) — словно одно целое. Главная задача — почувствовать, что мир безопасен, а рядом есть тот, кто откликнется на твой плач, улыбку, страх. Если этого не происходит, внутри остаётся ощущение, что безопасность — иллюзия.
Задача периода:
Испытать опыт надёжного, предсказуемого ухода и отклика на сигналы. Почувствовать: «Я в безопасности, обо мне заботятся, я важен».
Если задача не выполняется:
Во взрослом возрасте может появляться паническая реакция на дистанцию или холод в отношениях. Человек цепляется за партнёра, боится, что его «бросят». Эмоциональная зависимость проявляется как постоянное «проверяние» чувств другого: звонки, сообщения, контроль. Тревога при разлуке сравнима с детским криком младенца, оставленного в кроватке.
Кейс 1
Марина, 34 года, пришла с жалобой на панические атаки и невозможность быть одной дома. При расспросах выяснилось, что в детстве её часто оставляли одну, «чтобы не избаловать». Уже на второй сессии она плакала, говоря: «Я даже в туалет одна боюсь идти, мне нужно, чтобы кто-то был за дверью». В терапии мы медленно, почти на ощупь, строили её внутреннее чувство, что она может опираться на себя. Через несколько месяцев Марина впервые поехала в отпуск одна — и вернулась с ощущением: «Я могу быть с собой и это не страшно».
Кейс 2
Алексей, 40 лет, успешный бизнесмен, но постоянно в отношениях, где «живёт» в телефоне партнёрши: звонки, сообщения, видеосвязь. Когда партнёрша не отвечает — у него паника. На глубинных сессиях всплыло, что в младенчестве его мама была в длительной депрессии и физически не откликалась на его сигналы. Работа шла в том, чтобы научиться выдерживать паузы без катастрофизации и находить внутренние способы успокоения.
Задача периода:
Испытать опыт надёжного, предсказуемого ухода и отклика на сигналы. Почувствовать: «Я в безопасности, обо мне заботятся, я важен».
Если задача не выполняется:
Во взрослом возрасте может появляться паническая реакция на дистанцию или холод в отношениях. Человек цепляется за партнёра, боится, что его «бросят». Эмоциональная зависимость проявляется как постоянное «проверяние» чувств другого: звонки, сообщения, контроль. Тревога при разлуке сравнима с детским криком младенца, оставленного в кроватке.
Кейс 1
Марина, 34 года, пришла с жалобой на панические атаки и невозможность быть одной дома. При расспросах выяснилось, что в детстве её часто оставляли одну, «чтобы не избаловать». Уже на второй сессии она плакала, говоря: «Я даже в туалет одна боюсь идти, мне нужно, чтобы кто-то был за дверью». В терапии мы медленно, почти на ощупь, строили её внутреннее чувство, что она может опираться на себя. Через несколько месяцев Марина впервые поехала в отпуск одна — и вернулась с ощущением: «Я могу быть с собой и это не страшно».
Кейс 2
Алексей, 40 лет, успешный бизнесмен, но постоянно в отношениях, где «живёт» в телефоне партнёрши: звонки, сообщения, видеосвязь. Когда партнёрша не отвечает — у него паника. На глубинных сессиях всплыло, что в младенчестве его мама была в длительной депрессии и физически не откликалась на его сигналы. Работа шла в том, чтобы научиться выдерживать паузы без катастрофизации и находить внутренние способы успокоения.


Этап 2. Отделение и исследование мира — когда страшно быть самостоятельным
В 6–18 месяцев ребёнок начинает отходить от мамы, исследовать пространство, но при этом возвращается за «подзарядкой» в виде её взгляда или объятий. Если на этом этапе взрослые либо чрезмерно контролируют, либо наоборот — не поддерживают исследования, формируется страх самостоятельности.
Задача периода:
Научиться балансировать близость и самостоятельность. Испытать опыт: «Я могу быть отдельно, и при этом я любим».
Если задача не выполняется:
Взрослый может либо растворяться в другом, теряя себя, либо, наоборот, держать слишком крепко, чтобы «не потерять». В эмоциональной зависимости это проявляется как «симбиоз»: «Я и ты — одно целое, без тебя я не существую». Могут быть отношения, где партнёр не может выйти один, принять решение без согласования, а любое желание другого воспринимается как угроза связи.
Кейс 3
Ирина, 29 лет, пришла с фразой: «Я не умею жить одна, мне обязательно нужно, чтобы кто-то вёл меня за руку». В детстве её отец запрещал играть во дворе, а мама пугала историями о «плохих людях». В терапии мы постепенно учились пробовать новое — от маленьких шагов (поездка в соседний город) до серьёзных (смена работы). Ирина впервые сказала: «Я сама решила, и у меня получилось».
Кейс 4
Денис, 36 лет, всё время откладывал запуск собственного дела, хотя мечтал об этом много лет. Оказалось, что в детстве любая его инициатива встречала критику: «Ты ещё маленький, подожди». На сессиях мы работали с разрешением себе пробовать и ошибаться. Через полгода он запустил первый проект, пусть и с ошибками, но без внутренней паники.
Задача периода:
Научиться балансировать близость и самостоятельность. Испытать опыт: «Я могу быть отдельно, и при этом я любим».
Если задача не выполняется:
Взрослый может либо растворяться в другом, теряя себя, либо, наоборот, держать слишком крепко, чтобы «не потерять». В эмоциональной зависимости это проявляется как «симбиоз»: «Я и ты — одно целое, без тебя я не существую». Могут быть отношения, где партнёр не может выйти один, принять решение без согласования, а любое желание другого воспринимается как угроза связи.
Кейс 3
Ирина, 29 лет, пришла с фразой: «Я не умею жить одна, мне обязательно нужно, чтобы кто-то вёл меня за руку». В детстве её отец запрещал играть во дворе, а мама пугала историями о «плохих людях». В терапии мы постепенно учились пробовать новое — от маленьких шагов (поездка в соседний город) до серьёзных (смена работы). Ирина впервые сказала: «Я сама решила, и у меня получилось».
Кейс 4
Денис, 36 лет, всё время откладывал запуск собственного дела, хотя мечтал об этом много лет. Оказалось, что в детстве любая его инициатива встречала критику: «Ты ещё маленький, подожди». На сессиях мы работали с разрешением себе пробовать и ошибаться. Через полгода он запустил первый проект, пусть и с ошибками, но без внутренней паники.
Этап 3. Индивидуализация — когда боишься быть собой в отношениях
Это возраст 18–36 месяцев, когда ребёнок пробует заявлять «я» и «моё». Если взрослые в ответ обижаются, наказывают или стыдят, формируется привычка подстраиваться и бояться конфликта.
Задача периода:
Принять и интегрировать обе стороны себя — «хорошую» и «плохую». Научиться выражать злость и несогласие без страха потерять любовь.
Если задача не выполняется:
Взрослый избегает любых конфликтов, боится, что любое «нет» разрушит отношения. В эмоциональной зависимости это часто про идеализацию партнёра и подавление своих потребностей. Человек живёт в маске «удобного», боится быть отвергнутым, если покажет агрессию или несогласие.
Кейс 5
Лена, 31 год, пришла с запросом: «Я не знаю, что хочу, всё время живу чужими желаниями». Её детство прошло в атмосфере, где любое «не хочу» считалось непослушанием. В терапии мы учились замечать свои потребности и отделять их от ожиданий других. Первой победой стало то, что Лена отказалась от поездки к родственникам, на которую её «записали» без согласия.
Кейс 6
Михаил, 38 лет, говорил: «Я боюсь, что если буду собой, меня бросят». Всплыло, что в детстве мама переставала с ним разговаривать, если он проявлял характер. В работе мы отстраивали внутреннюю опору и разрешение быть «неудобным». Итог — он впервые честно сказал партнёрше о своём недовольстве, и отношения не рухнули, как он ожидал.
Задача периода:
Принять и интегрировать обе стороны себя — «хорошую» и «плохую». Научиться выражать злость и несогласие без страха потерять любовь.
Если задача не выполняется:
Взрослый избегает любых конфликтов, боится, что любое «нет» разрушит отношения. В эмоциональной зависимости это часто про идеализацию партнёра и подавление своих потребностей. Человек живёт в маске «удобного», боится быть отвергнутым, если покажет агрессию или несогласие.
Кейс 5
Лена, 31 год, пришла с запросом: «Я не знаю, что хочу, всё время живу чужими желаниями». Её детство прошло в атмосфере, где любое «не хочу» считалось непослушанием. В терапии мы учились замечать свои потребности и отделять их от ожиданий других. Первой победой стало то, что Лена отказалась от поездки к родственникам, на которую её «записали» без согласия.
Кейс 6
Михаил, 38 лет, говорил: «Я боюсь, что если буду собой, меня бросят». Всплыло, что в детстве мама переставала с ним разговаривать, если он проявлял характер. В работе мы отстраивали внутреннюю опору и разрешение быть «неудобным». Итог — он впервые честно сказал партнёрше о своём недовольстве, и отношения не рухнули, как он ожидал.


Этап 4. Взаимозависимость — когда трудно просить о помощи и принимать её
В 3–6 лет важно научиться быть в отношениях на равных: и давать, и получать. Если на этом этапе ребёнка либо используют как «маленького взрослого», либо не учат просить о помощи, формируется либо гиперответственность, либо беспомощность.
Задача периода:
Научиться строить равные отношения, уважая свои и чужие границы, при этом чувствуя себя частью группы.
Если задача не выполняется:
Взрослый может попадать в отношения с жёсткой иерархией, где он либо подчиняется, либо контролирует. В эмоциональной зависимости — частые сценарии «он главный, я подстраиваюсь» или «я решаю, как нам жить». Часто — страх остаться одному без «своей стаи», из-за чего человек терпит токсичное окружение.
Кейс 7
Ольга, 42 года, успешная руководительница, но в личной жизни выгорает: «Я всё делаю сама, а потом злюсь, что меня не поддерживают». В детстве она «заменяла» маму младшим братьям. На терапии учились просить о помощи, не считая это слабостью. Итог — впервые смогла попросить мужа о поддержке в сложный момент и не чувствовать себя должной.
Кейс 8
Артём, 27 лет, жил за счёт подруг, меняя одну за другой. В его семье за него всё делала мама, даже в старших классах. В работе мы постепенно вводили понятие личной ответственности. Через год он снял отдельное жильё и начал зарабатывать сам.
Задача периода:
Научиться строить равные отношения, уважая свои и чужие границы, при этом чувствуя себя частью группы.
Если задача не выполняется:
Взрослый может попадать в отношения с жёсткой иерархией, где он либо подчиняется, либо контролирует. В эмоциональной зависимости — частые сценарии «он главный, я подстраиваюсь» или «я решаю, как нам жить». Часто — страх остаться одному без «своей стаи», из-за чего человек терпит токсичное окружение.
Кейс 7
Ольга, 42 года, успешная руководительница, но в личной жизни выгорает: «Я всё делаю сама, а потом злюсь, что меня не поддерживают». В детстве она «заменяла» маму младшим братьям. На терапии учились просить о помощи, не считая это слабостью. Итог — впервые смогла попросить мужа о поддержке в сложный момент и не чувствовать себя должной.
Кейс 8
Артём, 27 лет, жил за счёт подруг, меняя одну за другой. В его семье за него всё делала мама, даже в старших классах. В работе мы постепенно вводили понятие личной ответственности. Через год он снял отдельное жильё и начал зарабатывать сам.
Этап 5. Интимность — когда близость воспринимается как угроза
К 6–12 годам человек учится строить глубокие дружеские и эмоциональные связи, не теряя себя. Если в семье близость была связана с болью, унижением или предательством, во взрослом возрасте может формироваться либо избегание, либо болезненное слияние.
Задача периода:
Сформировать устойчивое ощущение «кто я» и «какие у меня ценности». Научиться быть в близости, не теряя себя.
Если задача не выполняется:
Взрослый может бояться глубокой близости, устанавливать «забор» между собой и другими. В эмоциональной зависимости это часто выглядит как чередование притяжения и отталкивания: человек хочет быть рядом, но ставит невидимые барьеры. Либо выбирает партнёров, которые не готовы к близости, чтобы сохранить свою иллюзию «свободы».
Кейс 9
Светлана, 35 лет, постоянно выбирала недоступных партнёров: женатых, живущих в другой стране. Так она избегала реальной близости, которую в детстве ассоциировала с болью — отец уходил и возвращался, а мама в эти периоды была агрессивной. В терапии постепенно выстраивали безопасное переживание контакта — сначала через дружеские связи, потом в паре.
Задача периода:
Сформировать устойчивое ощущение «кто я» и «какие у меня ценности». Научиться быть в близости, не теряя себя.
Если задача не выполняется:
Взрослый может бояться глубокой близости, устанавливать «забор» между собой и другими. В эмоциональной зависимости это часто выглядит как чередование притяжения и отталкивания: человек хочет быть рядом, но ставит невидимые барьеры. Либо выбирает партнёров, которые не готовы к близости, чтобы сохранить свою иллюзию «свободы».
Кейс 9
Светлана, 35 лет, постоянно выбирала недоступных партнёров: женатых, живущих в другой стране. Так она избегала реальной близости, которую в детстве ассоциировала с болью — отец уходил и возвращался, а мама в эти периоды была агрессивной. В терапии постепенно выстраивали безопасное переживание контакта — сначала через дружеские связи, потом в паре.
Как незавершённые этапы формируют эмоциональную зависимость
Каждый из этих «разрывов» в развитии привязанности становится местом, куда мы возвращаемся в стрессовые моменты. И пока мы не дадим себе того, чего не хватило тогда — безопасности, поддержки, права быть собой, — мы будем искать это снаружи, часто в разрушительных отношениях.
Работа с этим — не про обвинение родителей, а про восстановление целостности. Про то, чтобы перестать быть тем испуганным ребёнком внутри и начать жить как взрослый, который может и хочет заботиться о себе.
Работа с этим — не про обвинение родителей, а про восстановление целостности. Про то, чтобы перестать быть тем испуганным ребёнком внутри и начать жить как взрослый, который может и хочет заботиться о себе.
Что это значит для эмоциональной зависимости и работы с привязанностью?
Если у женщины есть глубокая травма привязанности — страх остаться одной, ощущение, что любовь нужно заслужить, — то эффективные изменения у неё могут начаться уже на 8–12 сессии, особенно при поддерживающем терапевтическом процессе.
Но если истории сложнее, и травмы более фундаментальны, может понадобиться 12–20 сессий стабильной терапии — и даже дольше — для устойчивого ремонта и эмоционального роста.
Но если истории сложнее, и травмы более фундаментальны, может понадобиться 12–20 сессий стабильной терапии — и даже дольше — для устойчивого ремонта и эмоционального роста.

Финал: можно быть собой и быть в любви
В гештальт-терапии одно из ключевых направлений работы с привязанностью — это создание условий, где клиент может вживую прожить то, чего ему когда-то не хватило. Это не про разговор «в теории», а про настоящий опыт здесь, в кабинете.
Когда человек впервые начинает расширять осознавание, он замечает нюансы, которые раньше ускользали: дрожь в руках, комок в горле, внутреннее «стоп» при приближении. Вместо автоматической реакции мы учимся оставаться в контакте с собой и исследовать, что происходит. Это даёт возможность не просто понять, а прочувствовать: «Я могу быть рядом и не исчезнуть» или «Я могу отдалиться и не потерять связь».
В этом процессе активизируется то, что в гештальте мы называем творческой адаптацией — способность находить новые способы быть с собой и с другими, которые работают здесь и сейчас, а не повторяют старые детские сценарии. Например, если раньше близость ассоциировалась с опасностью, клиент пробует дозировать её, исследовать границы, проверять на опыте, что его «Я» остаётся целым.
Именно через маленькие, но настоящие шаги в терапевтическом пространстве формируется новый опыт привязанности — когда контакт становится безопасным, а одиночество перестаёт быть угрозой, превращаясь в ресурс.
А если ты хочешь пойти глубже и проработать свою историю индивидуально — я приглашаю тебя на личные онлайн-сессии. Сейчас действует специальное предложение — 50% скидка на первую встречу. Это возможность бережно прикоснуться к себе, услышать то, что давно просится наружу, и сделать первый шаг к внутренней свободе.
Индивидуальная сессия — 50 минут
→ 3000₽ очно / 2500 ₽ онлайн
→ первая сессия — 1500 ₽ очно / 1250₽ онлайн
Когда человек впервые начинает расширять осознавание, он замечает нюансы, которые раньше ускользали: дрожь в руках, комок в горле, внутреннее «стоп» при приближении. Вместо автоматической реакции мы учимся оставаться в контакте с собой и исследовать, что происходит. Это даёт возможность не просто понять, а прочувствовать: «Я могу быть рядом и не исчезнуть» или «Я могу отдалиться и не потерять связь».
В этом процессе активизируется то, что в гештальте мы называем творческой адаптацией — способность находить новые способы быть с собой и с другими, которые работают здесь и сейчас, а не повторяют старые детские сценарии. Например, если раньше близость ассоциировалась с опасностью, клиент пробует дозировать её, исследовать границы, проверять на опыте, что его «Я» остаётся целым.
Именно через маленькие, но настоящие шаги в терапевтическом пространстве формируется новый опыт привязанности — когда контакт становится безопасным, а одиночество перестаёт быть угрозой, превращаясь в ресурс.
А если ты хочешь пойти глубже и проработать свою историю индивидуально — я приглашаю тебя на личные онлайн-сессии. Сейчас действует специальное предложение — 50% скидка на первую встречу. Это возможность бережно прикоснуться к себе, услышать то, что давно просится наружу, и сделать первый шаг к внутренней свободе.
Индивидуальная сессия — 50 минут
→ 3000₽ очно / 2500 ₽ онлайн
→ первая сессия — 1500 ₽ очно / 1250₽ онлайн